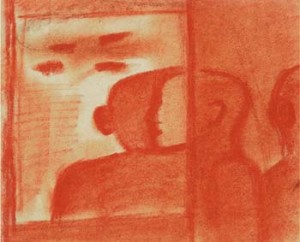В работах Каменского появляется мир, очень похожий на тот, какой был всегда, был прежде и сейчас находится совсем рядом. Но что-то изменилось в нём, и перемены коснулись чего-то очень важного. Возникает ощущение, что описания его становятся избыточными, что мир не нуждается в них и не только не показывается, но скрывается в их текстах.
Поэтому, может быть, художник говорит об очень близких вещах, совсем близких, но это не значит, что они ему хорошо известны. Они появляются как ответные движения людей, слов и состояний времени на его попытку говорить о них или их изображать. Тогда он начинает разговаривать с ними; он не переводит прямую речь их существования на язык искусства; рассказывая о них, он слышит их речь как язык искусства. Он не описывает их. Он как будто находит слова, в которых состояния вещей, их тексты, их смыслы сами начинают звучать; будто ищет формы, цвета и линии, в которых сами появляются люди и предметы, пространства и тела; даже не ищет – вслушивается и оставляет, понимает или нет, узнаёт или не узнаёт, всё равно – переносит с листа на лист, всматривается в происходящие перемены и следует за ними. Изобразительное искусство – это язык, единственно возможное место появления мира. Без искусства нет повседневности как реальности, то есть осознанного пространства присутствия человека. Образы искусства могут быть смутны, но их появление осознанно; фигуры повседневности кажутся ясными, но они только привычны. Художник пробует различать смыслы появления вещей, которые кажутся слитно-неразличимыми в повседневной жизни. Искусство – это проговаривание мира, просматривание его неустойчивых картин. Говоря на этом языке, художник может стремиться высказывать законченные, ясные и аккуратно выстроенные суждения, а может снова и снова повторять одни и те же слова, принимая их звучания, вглядываясь в постоянную незавершённость появляющихся форм и проваливаясь в бесконечную смену смыслов.
С другой стороны, когда художник, проживая каждый день, обращается к искусству, потому что искусство в его опыте и есть проживание, проговаривание различных состояний мира, а не их описание, мы говорим – искусство способно осознать себя как язык повседневности, как саму повседневность; тогда искусство принимает повседневность как систему многих языков. И себя искусство описывает как собрание различных языков. То есть нет никакой границы между искусством и повседневностью. И на самом деле, повседневность пропитана искусством и может изменяться, переживая эту взаимопринадлежность, будто она сама находит в себе смысл, становясь чем-то другим – искусством или тем, чему она не в состоянии сегодня дать никакого определения.
Когда повседневность начинает прислушиваться к искусству, когда повседневность начинает говорить на языках искусства, она подступает к своим пределам, она в состоянии предусмотреть свою предельность и приблизиться к границе своего «другого». Осознание близости «другого» – очень важный смысл в культуре экзистенциализма и, конечно, в русском изобразительном искусстве шестидесятых годов, но ещё важнее осознание повседневности как пространства диалога с «другим». В этом пространстве художественная практика становится способом обозначения постоянно удаляющихся и недостижимых границ; искусство становится способом прочтения повседневности, способом её проживания и проговаривания, осмысления и преодоления себя. Это искусство не преисполнено социальным оптимизмом. В значительной степени оно происходит от безразличности культурной среды. Оно проникнуто глубоким осознанием того, что не только изображает мир, но и пропадает в нём; что оно принадлежит повседневности и тонет в её неясных смыслах. Так, исчезая в современности, искусство снова открывает для себя образ мира тотальных перемен.