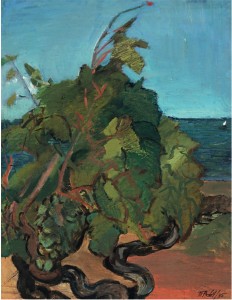В работах Маши Семенской отражается столкновение двух речевых потоков: один – это прямая речь художницы, другой – огромный поток или огромное множество потоков речей, составляющих пространство всей окружающей её действительности. Фактически, это столкновение двух потоков реальности.
Внешняя действительность отражается в восприятии художницы; она требует реакций, присутствия, причастности, вовлекает в себя и достигает границы, на которой каждый человек либо отождествляет себя с моделями бытия, предложенными внешними текстами о действительности, либо останавливается перед ней в некоторой растерянности.
Так художница осознаёт, что эти самые её реакции, формы её присутствия и причастности – и есть действительность её жизни, это она сама, место встречи существования огромного мира и её единственного сознания, жизни, неизвестной миру, но становящейся уникальной историей понимания и преломления мира, рождения мыслящего себя мира в её сознании, её памяти и её теле.
Здесь она вспоминает о себе, начинает искать себя и не сразу находит. Здесь современный человек встаёт перед осознанием разрыва между его собственной жизнью и тем, как ему предлагает жить современная массовая культура. Здесь начинается существование человека и мира, за которое никто, кроме этого самого человека, не несёт ответственности.
Скажи мне – чего ты хочешь, и я скажу – кто ты. Я – это мои желания. Целая индустрия в современном мире занимается производством желаний – не предметов желания, а самих наших желаний, клише, сообразно которым формируются наши желания. Неужели они создают человека? Неужели современный человек – это программа исполнения заложенных в него ожиданий и представлений других людей о том, что он такое и зачем он живёт?
 «Насколько я знаю себя, чтобы узнавать себя в своих мыслях, решениях и желаниях? Насколько могу отличать их от тех, которые просто навязаны мне? Насколько могу быть честной и открытой, чтобы признаваться в них самой себе? Что такое – мои мечты – детские, взрослые, прошлые и настоящие? Насколько моё отношение к снам, мечтам и желаниям определяет мою личность? Они всегда заставляли меня спрашивать – кто я и что такое – эта моя личность, что такое – это «я» в моей голове? Множества «я», потоки образов, в которых я узнавала и продолжаю узнавать себя, множества «я», которые живут благодаря другим – это и есть отпечатки, изображения на поверхности картин.» – так говорит Маша Семенская о своих работах.
«Насколько я знаю себя, чтобы узнавать себя в своих мыслях, решениях и желаниях? Насколько могу отличать их от тех, которые просто навязаны мне? Насколько могу быть честной и открытой, чтобы признаваться в них самой себе? Что такое – мои мечты – детские, взрослые, прошлые и настоящие? Насколько моё отношение к снам, мечтам и желаниям определяет мою личность? Они всегда заставляли меня спрашивать – кто я и что такое – эта моя личность, что такое – это «я» в моей голове? Множества «я», потоки образов, в которых я узнавала и продолжаю узнавать себя, множества «я», которые живут благодаря другим – это и есть отпечатки, изображения на поверхности картин.» – так говорит Маша Семенская о своих работах.
Художница вслушивается в свои воспоминания, всматривается в образы, в которых они визуализируются и замирают, в которых она в состоянии задержать их на поверхности памяти и размышляет над тем, какой она появляется в них сегодня; как она в настоящем времени переживает себя прошлую, как понимает, помнит, чувствует и видит свои состояния, страхи, фантазии, то, какой она была/ какой помнит себя/ какой тогда она понимала себя/ как в том вспоминаемом прошлом вспоминала о себе в ещё более раннем времени… Эти воспоминания не обязательно управляемы – они приходят в сновидениях, спонтанно, бесконтрольно и могут вызывать парадоксальные реакции. Они постоянны или мгновенно случайны, они возвращаются, они могут становиться навязчивыми, но откуда они приходят?
Об этом думают героини художницы – женщины, девушки, девочки-подростки или маленькие девочки, которые – и она сама и в то же время кто-то другой, – совсем другие девочки и женщины. Она прорывается сквозь роли, которые поручают женщине семья, среда, воспитание, возраст, тело, социальное положение и так далее, и так далее – к тому, как она понимает себя, как они понимают и могут понимать себя, как принимают свою женственность; что значит – быть женщиной, родиться женщиной, как в разное время, в разных состояниях к ней приходит это осознание того, что она женщина. Она стремится быть собой – и не уверена, что знает, что значит – быть собой.
 Острое переживание женственности и вопрошание о ней было и остаётся главным содержанием всех работ Маши Семенской. Иногда это женственность одной маленькой девочки, иногда это женственность мира и культуры, женственность как очень важная характеристика времени и человечности.
Острое переживание женственности и вопрошание о ней было и остаётся главным содержанием всех работ Маши Семенской. Иногда это женственность одной маленькой девочки, иногда это женственность мира и культуры, женственность как очень важная характеристика времени и человечности.
Работы Маши Семенской очень откровенны, почти интимны, но эта интимность едва слышна, потому что, во-первых, заглушена мощным звучанием голосов внешнего мира и чувствует свою неуместность; если бы она звучала в полный голос, то была бы эксгибиционистским жестом; поэтому она тиха, она не играет, она переживает момент своего существования; а поскольку эти работы обращены в сторону внешнего мира, интимность остывает, она почти заморожена. Яснее она звучит в пространстве сновидений.
Логика большинства картин Маши Семенской – логика сна, их оптика – это оптика сновидений, детских оптических игрушек и галлюцинаций.
«Мне важны сны, как состояния реальности, которую я так мало понимаю и значение которой для меня так велико. И тогда я вспоминаю свои сны, я думаю о том, что моё понимание окружающего меня реального мира пронизано чужими и подсказками. Кто я сегодня? Неужели я живу в мире навязанных мне желаний? Неужели «я» в пространстве социальных ролей – это самообман, это крючок, на который попадается всякий, кто хочет, чтобы его голос звучал в реальном мире? Каждый современный художник знает, что его индивидуальность – искалеченный результат компромисса с миром искусства.» – рассуждает художница.
В этих работах соединяются образы, приходящие из разных времён и различных областей культурного опыта – личные воспоминания и оценки монтируются с теми интерпретациями, которые предлагает ей внешняя среда; это травмирующие стыки, границы понимания себя и существования в понимании других, догадки, подозрения и реконструкции пришедших извне образов реальности, чужих определений действительности, направленных на то, чтобы сформировать единую шкалу ценностей у всех потребителей современной культуры. Понимание, что современное общество научилось оценивать людей по объёмам потребления продуктов, самое болезненное, что может переживать творческий человек. Само существование индустрии звёзд обеспечивается решением задачи сформировать идеальные образы и модели потребителя.
 С откровенной иронией, почти с сарказмом, художница использует образы, клише и приёмы индустрии роскоши.
С откровенной иронией, почти с сарказмом, художница использует образы, клише и приёмы индустрии роскоши.
Повторяющееся вопрошание о подлинности смыслов, общих для всех, смыслов, которыми оперирует российская корпоративная культура современного искусства, ставит Машу Семенскую в особенное положение, заставляет её идти своим независимым путём.
«Другие знают наверняка на мои вопросы, но других нет в этом мире, другие мнения – это части каких-то других языков и миров. Я не всегда слышу их, и вообще, была ли я там?» – говорит художница.
Очень часто в своей художественной работе она движется почти наощупь сквозь адаптированность к неадаптированности, от ясности к непониманию, в попытках посмотреть на себя сквозь эти чужие понимания, формулы идентичности и схемы реальности. Это искусство по-настоящему ставит вопрос о своей необходимости.